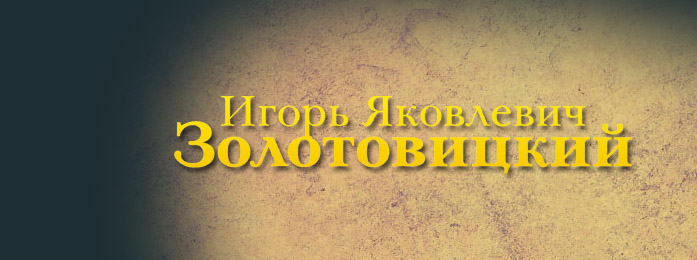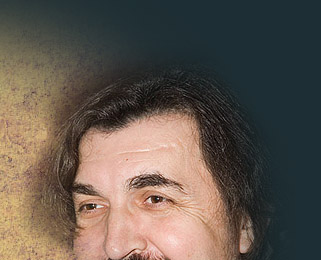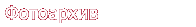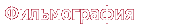|

ИГОРЬ ЗОЛОТОВИЦКИЙ.В родном Ташкенте он представлял мощную русскую диаспору. А в ставшей родной Москве частенько и со знанием дела играет знойных восточных мужчин. На театральной «кухне» дар Игоря Золотовицкого часто используют как этакую пряность, перчинку, вкус которой, однако, может сильно повлиять на вкус «основного блюда».
Его мастер Авангард Леонтьев разглядел в Золотовицком не только актерский, но и педагогический талант, и с его легкой руки теперь доцент Игорь Яковлевич Золотовицкий вот уже почти двадцать лет обучает молодых тому, что у артиста все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и комната в общежитии.
А еще ни на одном театральном мероприятии не бывает такой полной актерской явки, как на церемонии вручения премии «Чайка». Потому что от острот Игоря Золотовицкого можно подзарядиться на целый год вперед. Что вовсе не означает, что этому веселому человеку никогда не бывает грустно.
— Несколько лет назад вы возобновили спектакль «Чинзано», с которого начался театр-студия «Человек» и который объездил полмира. Что вы сегодня о нем вспоминаете?
— Да уж, только в Африке мы с ним не были. И везде нас потрясающе принимали. У нас везде были замечательные переводчики, кроме разве что Финляндии (там осталось ощущение, что нас не поняли). А в Бразилии мы и вовсе играли без перевода (только синопсис зрителям раздали), и успех был такой, что нас попросили сыграть дополнительные спектакли. Невероятно — они даже реагировали в тех же местах, что и русские! При том, что русские-то не всегда понимают Петрушевскую. А ведь мы были одним из первых советских театров в Латинской Америке, до нас туда приезжал только театр им. Руставели.
Приятно начинать с такой хорошей темы. К юности можно относиться только с ностальгией. Это были лучшие времена — правда, понимаешь это только, когда они прошли. Нам повезло, что мы оказались в нужном месте, в нужное время. И время было, с театральной точки зрения, историческое — тогда создавались новые театры. Очень много случайностей сработало на положительный результат, хотя так часто бывает, что все работает против. Нас, молодых артистов, взяли в труппу МХАТа, ничего нам не обещая. Мы исправно выходили в массовках в тех же «Кремлевских курантах». Но после «Чинзано» к нам стали по-другому относиться — мы стали не молодежью, а… поколением. Уж даже не знаю, как нас назвать — семидесятники или двухтысячники. И состоялись ли мы — тоже решать не нам.
Мы ушли из МХАТа, чтобы создавать свой театр — строили, ломали, воровали кирпичи. До «Человека» там был какой-то красный уголок районного значения. Нас помещение не устроило, пришлось углубляться в землю примерно на метр. А там пыль вековая и черт знает что.
— А говорят, театр с вешалки начинается…
— Не-ет уж — надо землю порыть. В респираторах. Да повыносить ее маленькими ведерками (ее потом пять или шесть самосвалов вывозили). Да кирпичи поворовать — машин тогда ни у кого еще не было, только у Саши Феклистова и Паши Белозерова. Так мы создавали наш театр. И я считаю, что у нас получилось. Жаль только, продержались недолго.
— Почему?
— Нет такой причины — наверное, этому суждено было случиться. Возможно, наша ошибка была в том, что в «Человеке» столкнулись интересы разных групп людей. Мы, понимаешь, хотели пойти демократическим путем, а демократию театр и не терпит. Пришел Сережа Женовач со своими друзьями — хорошие ребята, мы до сих пор с ними дружим. Мы пришли — Рома Козак со товарищи. Уже была Людмила Романовна Рошкован, человек васильевской закваски, для которой театр — вечный эксперимент и служение. Возможно, мы были не правы, что хотели сразу все перевернуть и поставить на более прагматичные рельсы. Но мы и «Чинзано» с «Эмигрантами» возобновляли, чтобы лишний раз напомнить властям, что «Человек» жив, и такие театры очень нужны.
— А в какой еще спектакль или период вы бы хотели вернуться?
— Фактически во все спектакли Ромы Козака. Если говорить пафосно, то все, что связано с постижением профессии, это те времена, когда мы придумывали наши спектакли. Это могло быть легко, как с «Чинзано», когда мы под винцо (и не только под винцо) в наших съемных квартирах в Марьинах Рощах что-то сочиняли. Это могло быть трудно, как со следующим нашим спектаклем «Елизавета Бам на елке у Иванова» — мы тогда уехали на месяц на недостроенную дачу нашего друга Виктора Кулюхина и думали, что запросто сочиним там свою пьесу. А все оказалось гораздо труднее, но спектакль все равно вышел замечательный. Кстати, там Паша Каплевич впервые попробовал себя в качестве художника. Он ведь закончил актерский факультет, поработал у Корогодского. А там вдруг объявил мне: «Знаешь, я рисовать начал, хочешь, тебя нарисую?» Намотал мне на голову полотенце, нарисовал в полупрофиль, и очень здорово получилось.
— Так вот откуда пошли ваши знойные восточные мужчины.
— Вот-вот. Еще хотел бы вернуться в мастерскую Олега Ароновича Шейнциса, где мы часто бывали. Ух, какой там мощный был пятачок. Конечно, мы тогда не задумывались, кто находится рядом с нами. Такие вещи начинаешь анализировать уже потом. А ведь он уже тогда становился тем Шейнцисом, которого все знают. На наших глазах появились макеты «Юноны и Авось», «Красных коней», «Поминальной молитвы» — а ведь он еще и невероятный макетчик. Из ничего создавал такое!
— Еще в студенческие годы ваша великолепная троица — Григорий Мануков, Егор Высоцкий и вы — гремела на всех капустниках. Почему они уехали? И почему остались вы?
— Они — сильные люди. Егор вообще — космополит по жизни и в профессии может все — и рисовать, и музицировать, и играть, и ставить. Человек-оркестр! И вообще по харизме своей — абсолютный европеец. А сейчас стал совершенным немцем. Гриша со своей женой Викой Кузнецовой уехал в Париж, тоже играет, снимается. Французский выучил! А я не то что бы слабее, но когда я не могу пошутить на другом языке, я себя дебилом чувствую. Если хочешь, мой конек — это интонация, а как ее передашь на другом языке? Если бы мне пришлось уехать, я бы и профессию сменил. Но это случится, только если я буду опасаться за жизнь своих детей.
— Кстати о шутках. Каждый раз, ухохатываясь вместе со всем залом на ваших церемониях вручения премии «Чайка», я представляю себе, какой сумасшедший был бы у вас рейтинг, захоти вы вести на телевидении какую-нибудь юмористическую программу.
— С одной стороны, мне приятно, что так получается. С другой, — я могу шутить, только если в зале свои люди. Ну, не могу я работать на чужую публику. Пробовал. Как-то в Татарстане согласился провести день рождения местного нефтяника. Проклял все на свете — сидят в зале молча триста татарских нефтяников и смотрят на своего начальника. Другой раз меня уломали провести новогоднюю корпоративную вечеринку для выпускников Оксфордов и Гарвардов, дилеров, брокеров и прочих дистрибьюторов. Они, говорят, интеллигентнейшие люди, не пьют, не курят и хотят тонких шуток. Я собрал коллег, приехали, вышли. «Добрый вечер, дорогие друзья», — говорю им. А в ответ из другого конца зала: «Да пошел ты…» «Всего вам доброго, — отвечаю. — С Новым годом». И ушел. Правда, деньги ребятам все-таки выбил. Не получается у меня зарабатывать на этом деньги! Мне нужен Паша Каплевич перед глазами, Костя, Петя. А иначе никак.
А что касается телевидения, мне сейчас предложили вести театральную передачу на ТВ-центре. Скоро будем записывать пилотные выпуски об Ульянове, Гундаревой и Матвееве. Даже если и не очень получится, стыдно за это не будет — дело-то благое.
— Вы уже почти двадцать лет преподаете в Школе-студии МХТ. Как изменились студенты за это время?
— А никак. Студент — во все времена студент, еще со времен Ломоносова. А вот уровень свободы меняется. В этом смысле мы были студентами из другой страны.
— А у вас появилось за это время какое-то свое ноу-хау?
— Да нет, наверное. Я точно знаю, что любой человек один раз может сыграть гениально. А сложность нашей профессии заключается в том, чтобы научить повторять каждый раз так же талантливо, как однажды может получиться у любого. Найти эту кнопочку.
— Вы как-то следите за их судьбой после окончания, за жизнью вне стен Школы-студии?
— Да, зашел тут недавно в общежитие. Кошмар! У девочек еще грязнее, чем у мальчиков. В холодильник заглянул — а там уже опарыши завелись! Я, живя в общежитии, ремонт делал, полы красил, обои клеил, а они!!! В общем, заставил их убраться и сказал, что в любую минуту к ним может нагрянуть Золотовицкий! Пока вроде чисто, даже цветок расцвел.
А если серьезно — многие уходят из профессии, а многие до нее даже не доходят. Из моего последнего курса распределились почти все, но если через пять лет в профессии останется человек семь, будет хорошо. Я бы делал паузу в наборе актеров, потому что никто не хочет уезжать из Москвы. Но тогда вступим в конфликт с Министерством образования, квотами, ставками и так далее.
— А вам приходится выгонять?
— Да, и я ужасно переживаю. Если человек талантлив, я буду терпеть его долго (если только он не подведет). Но я же могу и ошибаться. Был у меня один студент-красавчик, жутко зажатый — не справились мы с ним с Авангардом Николаевичем. Но он сейчас благополучно играет в сериалах. Вообще, если человек востребован и не глуп, он может научиться.
— Ваш «Башмачкин» с Александром Феклистовым был одним из моих самых сильных театральных впечатлений. Вы никогда не думали остаться в режиссуре?
— Самое страшное, когда ты смотришь спектакль, сделанный тобой, и ничего не можешь поправить. Я понимаю, почему режиссеры получают инфаркты и инсульты. Лучше находиться по ту сторону рампы. Были у меня счастливые моменты — «День рождения Смирновой» на одном из курсов, «Женитьба» во Франции. Но я не могу планомерно выбирать очередные пьесы и где-то их ставить. Это ответственность другого характера. А я в этом смысле — ленивый.
— Как вы думаете, нужен ли начинающим актерам какой-то тяжелый эмоциональный опыт, ради которого их, например, отправляют на наблюдения в больницы, хосписы и так далее?
— Я — сторонник того, что в искусстве все должно быть эстетично и легко. Даже если Отелло душит Дездемону, в этом не должно быть патологии. Я не понимаю, когда театр вводится в ранг секты или вечного жизненного эксперимента. Для меня все-таки главное — не театр, а моя семья и дети. Хотя я очень люблю театр и раздражаюсь, когда артисты, тем более партнеры, пытаются доказать мне, что любят театр больше всего на свете. Когда человек ставит театр или там политику выше семьи, мне это кажется патологией. Евстигнееву не надо было никуда ходить за опытом, и Леонову не надо. Не надо душить девушек, чтобы понять психологию ревнивца. Да, у нас есть тема «Наблюдения». Кстати, если говорить о ноу-хау, мы с Сережей Земцовым призываем своих студентов описывать еженедельные впечатления. Но это должны быть впечатления художника. Вот лежит белая салфетка на черном столе — можно написать и про салфетку. Я посмотрел на нее и подумал: есть «Черный квадрат», а есть, наверное, и «Белый квадрат» — что-то в этом роде. Надо наблюдать за людьми, но не для того, чтобы скопировать, а для того, чтобы досочинять, как этот человек чистит зубы, читает, признается в любви. Талант, в конце концов, еще никто не отменял. Я согласен с Сергеем Юрским, который говорит, что артист не имеет права потеть на сцене. В смысле демонстрировать свои усилия.
— Когда-то в спектакле Романа Козака «Самое главное» вы играли персонажа под названием «Актер на роли любовников». Не жалеете, что это амплуа проходит мимо вас?
— Ой, что там говорить — мимо меня столько прошло! Я каждый год ставлю Чехова с американскими студентами, а весь Чехов прошел мимо меня. В этом смысле типажность в нашей стране имеет гораздо большее значение, чем в той же Америке. Наверное, я — не типаж Чехова.
— Или никто не захотел увидеть…
— Конечно, жалко, можно было и попробовать. У меня была одна такая драматическая роль в спектакле «Золото» Козака — я играл там аутиста и не произносил ни одного слова. Автор — такой израильский Ибсен. Очень хороший был спектакль, по статусу — антреприза, но очень качественная. Декорации Левенталя, хор Турецкого в полном составе — они пели, как боги! Потом стали спектакль прокатывать, и все развалилось: хор вывезти - дорого, декорации не везде влезают. Жалко. Хотя сегодня я не могу сказать, что мечтаю о какой-то роли.
— Сегодня МХТ сравнивают с супермаркетом, где есть все. Если продолжить аналогию, под какой маркой проходит актер Игорь Золотовицкий?
— Хотелось бы считать, что деликатес. Но, скорее всего — это товары для отдыха. Хотя сегодня я не могу сказать, что не хочу играть какую-то из своих ролей. Все нравятся.
— Вам не грустно все время быть веселым?
— Я много езжу и вижу, как мало в жизни радости у людей. И доставлять ее людям — хорошая задача. Главное, не относиться к себе слишком серьезно — без самоиронии можно повеситься.
— Объясните, пожалуйста, откуда у мальчика из нетеатральной семьи, живущей в не самом театральном городе, берется тяга к театру?
— Семья — не театральная, но Ташкент был очень театральным городом. И вообще русским — сказать хотя бы, что в эвакуации там жила Ахматова. Мои родители тоже «не местные» — мама из Украины, папа из-под Смоленска. Мне было где заразиться театром. Там потрясающе работал Марк Вайль со своим «Ильхомом» — в Москве у него так не получалось. Я был примерным учеником — из разряда «ими гордится школа», но однажды все-таки сбежал с уроков. На «Вестсайдскую историю», которую смотрел раз тридцать. А с пятого класса стал ходить в драмкружок. Кстати, в Москве сейчас большая ташкентская мафия из того драмкружка — Витя Вержбицкий, Джаник Фазиев, Саша Самойленко.
— А торговаться вы любите?
— Ой, обожаю. Недавно привез жене браслет, купленный за пять долларов, а он стоил сто сорок. Спросите Таню Васильеву, как я торговал ей платки. Это целая наука — надо сразу назвать свою цену, нереально низкую, и повернуться, чтобы уйти. Если торговец за тобой не побежит, ну и бог с ним. А если побежит, значит, нужно и дальше гнуть. Меня мама научила торговаться — она феноменально коммуникабельная была. Зайдет в купе, а через минуту выходит, уже со всеми познакомившись, и меня инструктирует: «Сынок, знакомься, это Петя, он тебе вот там поможет». В совершенстве владела ташкентским диалектом, и когда торговцы видели, что европейского вида женщина так хорошо говорит по-узбекски, сразу цену сбивали втрое. Вся моя общительность — от нее. Папа был другого склада, застенчивым добряком. А с мамой я ходил на рынок и учился. Теперь беру младшего сына на Дорогомиловский рынок, он у меня обаяшкой «работает», все пробует, ну а я торгуюсь.
— Тоже театр.
— Еще какой
Ольга Фукс.
«Кульпоход» №5 2007 г.
<< Назад

| |